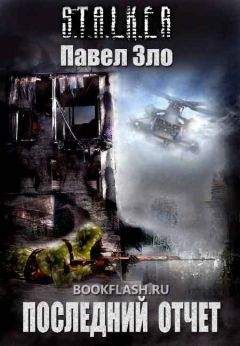Ознакомительная версия.
Нетрудно заметить, что критерии оценки произведения, если, конечно, подразумеваются истинные, а не архаичные критерии, тесно связаны друг с другом, вытекают один из другого. Цель написания произведения не может не быть обусловлена личностными характеристиками автора, и в то же время жизнь автора претерпевает изменения, обусловленные книгой, цели которой определены им в полном соответствии с особенностями своей личности.
В этом смысле судьба рецензируемой книги показательна, как никакая другая. Обратившись к пункту в) условленной критериальной схемы, мы рискуем сделать поспешный вывод о том, судьба, уготовленная книге Н. С. Мунтяну, и есть ее главная цель. Не поддадимся обману рекламного мышления. Книга погибла не для того, чтобы обратить на себя внимание.
В приватной беседе с вашим покорным слугой автор обмолвился, что роман сгорел случайно, якобы был забыт в папке с предназначенными к ликвидации финансовыми документами. Три главы из двенадцати уцелели якобы потому, что автор зачем–то отвез их домой, по его же словам, для доработки. Остальные девять глав безнадежно утеряны, и, несмотря на мои настойчивые просьбы, Н. С. Мунтяну не просто не пролил света на несохранившиеся части, но и настоял, чтобы, за исключением трех глав, которые мне до сих пор так и не посчастливилось прочесть (хотя автор утверждает, что, кроме него самого, эти главы прочел еще один человек), в этой и во всех последующих рецензиях произведение называли не неизданным, и даже не погибшим, а ненаписанным.
От себя добавлю — и непрочитанным. Что, безусловно, осложняет задачу рецензента, но в то же время максимально ограничивает фактор субъективности. В нашем распоряжении ровно те критерии, которые необходимы для беспристрастного анализа романа: а) личность автора, б) среда написания и в) судьба произведения. Текст романа оказывается не просто необязательным, но нежелательным критерием — он может понадобиться для оценки личности рецензента, но никак не романа.
Истинная причина гибели романа Н. С. Мунтяну представляется настолько очевидной, что вызывает недоумение тот факт, что версия автора о случайном воспламенении до сих пор принимается на веру, без малейшего скепсиса. Возьму на себя смелость утверждать, что знаю, как именно погиб роман.
Во время одной из наших с ним бесед, автор продемонстрировал мне необычное изобретение — ручку «Паркер». На вид ничего особенного — обычная ручка, если, конечно, такое определение применимо к «Паркеру» с золотым пером. Удивление вызвали два конструктивных момента: во–первых, перо, действительно золотое, но необычайно острое, к которому невозможно прикоснуться без риска порезаться; во–вторых — съемный колпачок ручки, с незаметной встроенной зажигалкой. Действие последней господин Мунтяну регулярно демонстрировал вашему покорному слуге, прикуривая прямо от «Паркера».
«Способ борьбы с недобросовестными бумагами», сказал он, заметив мой недоуменный взгляд и пояснил: «если контракт, который мне предлагают подписать, меня не устраивает, я всаживаю перо «Паркера» в шею партнера, а контракт сжигаю, воспользовавшись колпачком–зажигалкой. Впрочем, если с документами все в порядке, «Паркером» можно пользоваться более традиционно. Подписав контракт, например».
Тогда я оценил несколько мрачноватый юмор собеседника, но сегодня могу с уверенностью сказать: «я знаю, кто и чем поджег роман». Протыкать себе шею пером–лезвием автор не стал, наверное, потому, что целью было уничтожение не автора, а романа. А ведь все так просто: роман остается «нецелесообразной» добродетелью до того момента, пока не превращается в продукт. Вероятно, автор оценивал коммерческий потенциал своего произведения так высоко, что сжег его до того, как роман прочтет еще кто–то, кроме него самого. Ну и того второго неизвестного.
Три сохранившиеся главы — это доказательство того, что роман был. Для чего оно автору, точно ответить трудно, но можно предположить, что это своего рода напоминание самому себе, специально для случаев, когда «нецелесообразная» добродетель не дает покоя первым двум личностям автора.
«Будь разумен», как бы предостерегают эти главы и напоминают: «Ты уже заплатил по счетам. Вот они мы, доказательство твоей «нецелесообразной» добродетели». Оно и верно: жить с осознанием выполненного долга куда как легче.
Вот, пожалуй, и все. Роман, который поверг бы в безвылазный ступор любого анахроничного литературоведа, при анализе методом современной критериальной триады, предстает в качестве логичного и даже несколько заурядного произведения. Это неудивительно, ведь в понятие заурядности господин Мунтяну не вкладывает никакого негативного смысла. Во время последней нашей беседы он вдруг начал вспоминать детские годы и, в числе прочего, рассказал удивительно красивую сказку, которую услышал от своего деда.
«К чему это вы?», спросил я его, не поддавшись опьянению красотой.
Поразительный человек — ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже не подал вида, что оскорблен моей попыткой свести самодостаточное великолепие сказки к банальному поводу для перехода на нужную рассказчику тему.
«Не знаю», ответил он, и я — честно — сразу ему поверил.
«Возможно», продолжал, впрочем, он, «в том, что двум незаурядностям не ужиться вместе? Не лучше ли было для обоих, чтобы шакал не показывал носа из норы, а волк сам доставлял бы ему пищу, что называется, на дом?».
Возможно, я ищу черную кошку в той темной комнате, где ее нет, но не могу избавиться от мысли, что странная сказка и не менее странное замечание рассказчика как–то связаны с его романом. Хотя, скорее всего, это мои домыслы, неизбежные подозрения человека, который, что называется, зациклился. А может, мне просто хочется, чтобы во всем, что касается романа, была хотя бы одна загадка, не поддающаяся разрешению?
Как бы то ни было — судите сами.
***
Волк и шакал.
Давно, но не давным, в старину, но не в седую, в лесах, но не в дремучих, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом, в том самом месте, где сейчас Молдавия, объявился шакал. Как так, удивились люди, сроду не слыхивали о таком звере, а тут на тебе — рыщет у самой деревни, как в собственных владениях. И все бы ничего, да стали замечать зверя то с беличьей шкурой, то с заячьими ушами, а то и с фазаньими перьями в зубах.
Эге–ге, переполошились люди, да ведь это хищник! Того гляди, повадится кур да гусей таскать, а то и, страшно подумать, на овец со свиньями позарится. Поразмыслив основательно, но так чтобы не опоздать, решили хищника изловить, снарядив охотников самых проворных, метких да смелых.
Не долго, но и не коротко, а ровно столько, сколько понадобилась собакам, чтобы напасть на след, вышли охотники на тропу шакала, и занялась погоня. День гонятся охотники, догнать не могут. Второй гонятся — догнать не могут. И третий гонятся, и пятый день, а шакал знай себе бежит да пожевывает: то белку, то зайца, а то и фазана — и с новыми силами еще прытче от охотников удирает. Уже собаки языки свесили, пар выдыхают да жалобно поскуливают. Так ведь и у охотников ноги заплетаются да ружья из рук валятся, того и гляди, обратный путь домой не осилят.
Как вдруг — вот удача — застыли охотники, глазам своим не верят, даже дышать перестали — словно птицу счастья боятся спугнуть. Присел шакал в кустах, уши свои шакальи прижал, голову в траву спрятал, сидит, спину во всей красе охотникам показывает. Подкрались к зверю охотники, тише мышей амбарных, прицелы на шакала навели, чтобы уж наверняка, как вдруг…
Господи, помилуй, господи помилуй! Закрестились охотники истово, да назад попятились, шурша травой и хрустя ветками, забыв начисто про осторожность всякую, про шакала, да про погоню свою утомительную.
Матерь божья! Волк! Да какой — не маленький и не большой, а здоровенный, точно медведь! Шерсть густая, торчком, глаза острые как кинжалы, пасть огромная — человеческая рука целиком уместится. Собаки не то что лаять — скулить не решаются, позади шакала в траве схоронились, уши к голове прижали, посматривают на волка осторожно, но не без зависти. А волк господином стоит на полянке, зайца рвет — по–хозяйски, не спеша. Поел, осмотрелся, и двух шагов ему хватило, чтобы раствориться в чаще. А шакал голову поднял, на полянку юркнул, кишки заячьи подобрал и дальше по следу волчьему побежал.
Эге–ге, только и пробормотали охотники, как только речь к ним вернулась. На карася мы грешили, а тут вон какая щука. Придется еще за шакалом побегать, да не губить проклятого, пока на волка не выведет.
Ознакомительная версия.
![Сергей Дигол - Старость шакала[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)